- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Развитие воли и произвольности в дошкольном возрасте
Проблема воли и произвольности является центральной для психологии личности и ее формирования.
Понятия «воли» и «произвольности» охватывают достаточно широкий круг разнородных феноменов: действия по инструкции, настойчивость и самостоятельность в достижении цели, соподчинение мотивов, соблюдение правил, целеполагание, волевые усилия, моральный выбор, опосредствованность познавательных процессов и пр.
В научной литературе можно выделить два основных подхода к определению сущности этих понятий, один из которых связан с овладением своим поведением и саморегуляцией, а другой — с формированием мотивационной сферы ребенка.
Первый из них рассматривает произвольность и волю в контексте проблемы сознания. Главными характеристиками волевого и произвольного поведения полагаются осознанность или сознательность.
Волевое и произвольное поведение противостоит неосознанному, или импульсивному. Осознанность собственных действий предполагает их опосредствованность, то есть наличие некоторого средства, с помощью которого субъект может выйти за пределы непосредственной ситуации и встать в отношение к самому себе. Большой вклад в разработку такого подхода внес Л. С. Выготский, который определял произвольные процессы как опосредствованные.
Второй подход является достаточно распространенным и связывает понятия воли и произвольности смотивационной сферой человека. Определение воли как причины активности человека можно найти как в зарубежной (К. Левин, Ж. Пиаже, В. Вундт и др.), так и в отечественной психологии (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович и др.).
Волевые качества личности (целеустремленность, настойчивость, смелость, решительность и др.) предполагают наличие сильных, устойчивых мотивов, подчиняющих себе другие, то есть развитую иерархию мотивов.
Таким образом, мы имеем два различных подхода к определению данных понятий и два термина. В этой связи целесообразно различать содержание двух употребляемых в психологии терминов — воля и произвольность.
Волю можно представить как наличие устойчивых и осознанных желаний или мотивов поведения, которые подчиняют себе остальные. Развитие воли, исходя из этого, будет заключаться в становлении собственных желаний или «волений» ребенка, их определенности и устойчивости.
Произвольность, вслед за Выготским, нужно понимать как способность владеть собой, своей внешней и внутренней деятельностью. Развитие произвольности заключается в овладении средствами, позволяющими осознать свое поведение и управлять им.
При таком понимании воля и произвольность в некотором смысле противоположны: если волевое действие направлено вовне, на предмет внешнего мира (на его достижение или преобразование), то произвольное действие направлено на себя, на средства овладения своим поведением.
В реальной жизни проявления воли и произвольности в ряде случаев могут не совпадать. Так, например, упрямство, настойчивость, навязчивые желания ребенка, которые являются очевидными проявлениями воли ребенка, могут вести к неконтролируемому, неуправляемому поведению.
С другой стороны, выполнение инструкций взрослого, будучи одной из форм произвольного, опосредствованного поведения, может не быть волевым, если мотив действий исходит не от самого ребенка, а навязывается извне.
Вместе с тем процесс становления волевого и произвольного поведения имеет единую направленность, которая заключается в преодолении побудительной силы ситуативных воздействий и стереотипных реакций и в становлении способности самостоятельно определять свои действия и управлять ими.
Формирование и волевого, и произвольного действия идет по пути преодоления импульсивных реакций и становления собственного, свободного и осознанного поведения.
В онтогенезе воля и произвольность развиваются в неразрывном единстве и взаимно обусловливают друг друга. Каждое культурно-заданное средство для того, чтобы опосредствовать поведение ребенка и поднять его на новый уровень произвольности, должно быть осмыслено ребенком и мотивировать его действия.
Термин Выготского «средство-стимул» как раз означает культурное средство, ставшее побудителем собственной активности ребенка. С этой точки зрения произвольность нельзя рассматривать только как механическое выполнение требований взрослого или как приспособление к социальной среде.
Произвольность как качество личности проявляется только в том случае, если требования общества (правила или нормы поведения) стали собственными потребностями и мотивами ребенка, если их выполнение происходит по его собственной воле.
Но здесь возникает вопрос: как входит в жизнь и сознание ребенка то социокультурное содержание, которое не только отражается им, но приобретает «мотивационное значение» и «непосредственную побудительную силу». Как возможно превращение культурно-заданных средств и образцов в мотивы собственных действий ребенка?
Самый общий ответ на него заключается в известном утверждении Л. С. Выготского о том, что «за сознанием лежит жизнь». Разные формы культурно-исторического опыта не могут быть переданы ребенку непосредственно, через объяснение или демонстрацию образцов действия. Для их усвоения он должен быть вовлечен в специально направленную практическую деятельность. В этой деятельности рождаются и смысл, и средства (способы, образцы) деятельности.
В раннем и дошкольном возрасте такое вовлечение происходит только в совместной жизнедеятельности ребенка со взрослым.
Взрослый является для ребенка не только носителем средств, образцов и способов действия (то есть значений), но и живым олицетворением тех мотивационных, смысловых уровней, которыми ребенок пока не обладает. На эти уровни он может подняться только через общение, совместную деятельность и общие переживания со взрослым.
Мотивация, как и всякая другая высшая психическая функция, обнаруживает себя дважды: сначала как форма взаимодействия и сотрудничества между людьми, как категория интерпсихическая, затем как внутреннее, собственное отношение субъекта, как категория интрапсихическая (вспомним основной закон развития высших психических функций).
Однако способ передачи смысловых уровней принципиально иной, чем при усвоении средств и способов деятельности. Здесь необходима эмоциональная вовлеченность взрослого в общую с ребенком деятельность, благодаря которой может произойти передача смысла и мотива, то есть своего рода эмоциональное заражение.
Этот процесс взаимодействия, в котором взрослый является посредником между ребенком и каким-либо культурным содержанием, можно назвать процессом приобщения.
Взрослый приобщает ребенка к новому предмету его деятельности и сознания. Причем в этом процессе он не только передает ребенку средства овладения своим поведением, но и мотивирует новую деятельность, делает ее аффективно значимой.
Процесс приобщения проходит через ряд этапов. Вначале новый предмет деятельности существует для ребенка в скрытой, латентной форме, как атрибут присутствия взрослого. Однако благодаря тому, что взрослый не просто демонстрирует нужный способ действия, а передает ему аффективный заряд, то есть ярко выражает свой интерес и эмоциональное отношение, в определенный момент происходит «открытие» нового предмета. Ребенок начинает видеть новый предмет как новый способ действия.
Эмоциональная притягательность предмета, мотивирующая направленную на него активность, его образ и способ действия с ним открываются перед ребенком в неразрывном единстве.
Ребенок открывает в предмете собственный способ действия (например, он понимает, что может выполнять роль другого, и знает, как именно это нужно делать). Взрослый при этом «уходит в тень», уступая место на экране сознания ребенка новой для него реальности.
Статьи по теме
- Проблема готовности к школьному обучению
- Психологические новообразования кризиса семи лет
- Основные симптомы кризиса семи лет
- Становление этических инстанций и социальных чувств
- Становление личностных механизмов поведения
- Дифференциация детей в детском коллективе
- Развитие общения со сверстником в дошкольном возрасте
- Особенности общения дошкольников со сверстниками
- Внеситуативные формы общения дошкольника со взрослыми
Полезные статьи


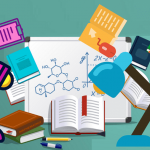




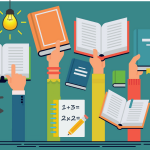

Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

